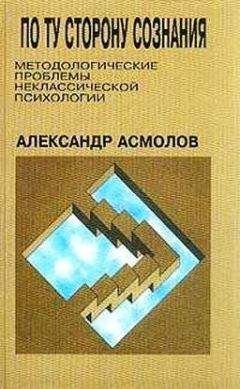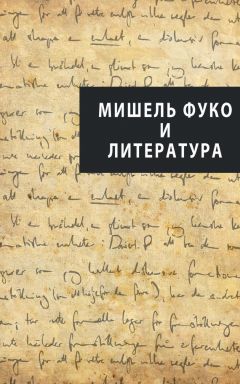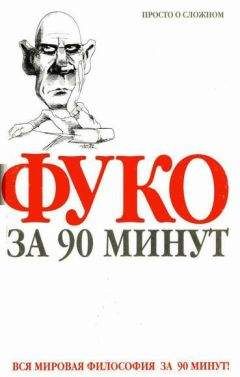Екатерина Биричева - Концепт «субъекта» в пространстве неклассической онтологии
В методологии творчества концептов бытие может быть описано только в «терминах» плана имманенции, «образующего … почву философии, её Землю её фундамент, на которых она творит свои концепты» [27, с. 50], а концепт может быть только пережит как событие смысла. Поэтому часто возникает мнение о том, что философия Делёза – это некий «шаг назад», по сравнению с онтологией Хайдеггера: всё как будто описывается «со стороны», с претензией на «объективность». Но само описание постструктуралистски предполагает становление, разворачивание мысли изнутри, «работу на границе» [51, с. 13] – это просто иной способ бытия, иной способ самораскрытия. Делёз всегда уверенно пишет (даже вопросы, которые он задаёт в текстах, кажутся утверждениями), что даёт повод некоторым исследователям (например, [81]) думать о его претензии на некое «последнее слово», на «окончательность». Но любая критика концептов вместе с иронией по поводу иного стиля письма бьют мимо цели: «критиковать – значит просто констатировать, что старый концепт, погруженный в новую среду, исчезает, теряет свои составляющие или же приобретает другие, которые его преображают» [27, с. 36].
По сути дела, проводить анализ концептов можно, только используя методологию творчества концептов; анализировать тексты мыслителей, разворачивающих категории, – только на языке категорий. Этим отчасти можно объяснить стилевую «мозаичность» данной работы: чтобы понять автора, приходится говорить на его языке, «заглядывая» в его понимание бытия. И пусть тут отпадает вопрос об истинности и ложности – но только в силу того, что в письме ложного быть не может, пока в нём присутствует искренность, а философ осуществляет своё предназначение, самостоятельно вопрошая и ставя перед собой свои задачи6. Сравнивать здесь вообще не годится. Именно поэтому концепт «бесспорен»: дискуссии «не продвигают дело вперёд, так как собеседники никогда не говорят об одном и том же» [27, с. 35] и никогда не говорят на одном языке.
Тем не менее, когда Делёз и Гваттари пишут о том, что «беседа всегда является лишней по отношению к творчеству» [27, с. 36], у читателя возникает закономерный вопрос: «а как тогда данные мыслители написали книгу о творчестве концептов в соавторстве?». Дело в том, что «беседа» в данном контексте приобретает скорее негативное значение спора, дискуссии, неприемлемых для философского дискурса, ведь «спорящие всегда оказываются в разных планах» [27, с. 36]. Во-первых, раз уж имеет место обозначенная выше «судьба бытия» или топология мыслителя, то все мы «видим» философию под разными углами зрения и делаем это разными способами. Во-вторых, нас интересуют различные проблемы («Философия состоит не в знании и вдохновляется не истиной, а такими категориями, как Интересное, Примечательное или Значительное» [27, с. 96]). И, наконец, мы принадлежим не только топологическому, но и, в буквальном смысле, географическому, историческому, идеологическому, национальному, языковому (и т.д.) распределению, что накладывает на первые два аспекта свой отпечаток. Поэтому в самой по себе «беседе» может быть произведён лишь обмен мнениями, коммуникация, к которой, по мысли французских философов, не следует сводить философию. Кроме того, в беседе каждый манифестирует свою точку зрения, но невозможно проговорить все условия её возникновения («пейзажи и персонажи…»), да и «встать на место Другого» оказывается трудно, а во многих смыслах – просто невозможно. Совсем другое дело, когда на место спора встаёт диалог. Диалог предполагает не столько «соперничество», сколько «сообщничество», не противостояние, но взаимное дополнение. В диалоге мыслителей «беседа» может стать одним из факторов, способствующих философскому творчеству, однако не заменяющих его. Творчество всегда индивидуально – это, прежде всего, внутренняя работа. И тут соавторство возможно только в той самой ситуации, когда в цене необходимо оставить лишь содержание опыта, когда имеет место взаимно обратимое становление одного автора другим7.
Чтобы чётко проговорить особенности используемой в данной работе методологии, которая, как уже становится ясно, тяготеет более к постмодернистской традиции и топологическому пониманию смысла, необходимо вернуться к следующему моменту. Даже если нам свойственно мышление категориями, а не концептами, мы пишем всегда в двух аспектах:
преонтологическом и онтологическом. Первый – это артикуляция наших интуиций в соответствии с тем, что «есть» бытие и его смысл, начертание плана имманенции. Второй, онтологический, аспект прописывается обычно подробнее, более развёрнуто. Это последовательное преломление преонтологического понимания бытия сквозь его «модусы» – категории, рассматривание целого с разных сторон и в свете разных проблем, открытие «эмпирии на новом уровне». Это одновременное творчество концептов, набрасывание их на план имманенции, состыковка в нём с другими концептами, сериации вопросов, обозначающих пространство проблематики. При этом оба аспекта философского письма резонируют друг в друге, повторяясь от одной категории к другой, от одного концепта к другому, проводя различие в самом смысле между открывающимся бытием и опытом его переживания. Таким образом, работа, выстраиваемая методологически как творчество конкретного концепта, предполагает две части: преонтологическое понимание бытия, то есть раскрытие топологической авторской позиции, и онтологическое преломление этого понимания в отношении создаваемого концепта.
Представляется, что именно об этом говорят Делёз и Гваттари: «Относительность и абсолютность концепта – это как бы его педагогика и онтология, его сотворение и самополагание, его идеальность и реальность» [27, с. 29]. Относительность концепта заключается в том, что он соотносится с другими, имеет свои «географию» и топологию. Поэтому у концепта есть «педагогика»: научиться творить концепт, развить свои преонтологические интуиции «в свете» своей топологии, воспитать себя сополагать свой концепт с концептами Других, уважая их точки зрения, поскольку «своя» позиция возможна лишь в силу её относительности по отношению к позиции Другого. Идеальность концепта – это тоже конкретика бытия концепта, его функционирования в философском дискурсе как продуктивной Идеи [37]. В то же время концепт абсолютен: он неоспорим, так как у него есть своё преломление-применение, он исполняется, обладая полнотой смысла. Поэтому концепт «реален без актуальности» [27, с. 29] – даже будучи виртуален как структура, он реален не только в пространстве мысли как чистое событие смысла, но и потенциально имеет своё реальное-реализуемое эмпирическое «применение». Поэтому же концепт сам себя полагает: рождаясь из преонтологических интуиций, он следует своей абсолютной судьбе, – по-другому уже никак, его можно сотворить только таким, каким он уже полагается в предпонимании бытия. Вот почему мы упоминали о том, что план имманенции связан с интуициями [27, с. 49]. «Если философия начинается с создания концептов, то план имманенции должен рассматриваться как нечто префилософское» [27, с. 49], а концепты «отсылают к некоему неконцептуальному пониманию. Причём это интуитивное понимание меняется в зависимости от того, как начертан план» [27, с. 49].
В связи с этим работа состоит из двух глав: педагогики и онтологии концепта «субъект». Первая часть, помимо данного методологического ключа к прочтению последующего текста, предполагает раскрытие преонтологических интуиций автора, построение связи «субъекта» с пониманием бытия и смысла, набросок авторского концепта «субъекта» как функционирующего в философском дискурсе, а также вписывание создаваемого концепта в пространство других концептов, принадлежащих неклассической традиции. Вторая часть открывает грани и оттенки авторского концепта «субъект», показывая его онтологическое «применение» для понимания различных аспектов отношения «Человек – Мир»: дискурсивного, психологического, социального, коммуникативного. Завершается вторая глава обрисовыванием возможностей дальнейшего развития данного концепта как личностно значимого для каждого человека. Таким образом, работа предполагает два неотделимых друг от друга момента: различие и повторение, судьбу и встречу, топологию и движение, смысл для меня и смысл для Другого… В конце концов, несмотря на неакадемичность стиля и на компенсирующую её методологическую последовательность «философская книга должна быть, с одной стороны, особым видом детективного романа, а с другой – родом научной фантастики» [37, с. 10]. Выбор между методологией творчества концептов и методологией разворачивания онтологических категорий осуществляется неосознанно, он уже совершён судьбой бытия.